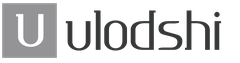Тоталитарное политическое сознание смолина юлия викторовна. Тоталитаризм и тоталитарное сознание Особенности тоталитарного сознания
О метафорах советского прошлого и о том, почему они воспроизводятся в настоящем
Открытие Олимпийских игр в Москве, 1980 г.
Мы подошли к драматической черте. И причина того, что с нами сегодня происходит, не в политиках, хотя и в них тоже. Главная наша беда — в тоталитарном наследии, которое живет в сознании современного российского общества.
Если мы сравним нацистскую Германию и фашистскую Италию во второй четверти прошлого века (а также франкистскую Испанию, Португалию времен Салазара, маоистский Китай и т.д. в разные периоды XX века) с более близкой нам историей, которая прошла под флагом коммунистической доктрины, то мы увидим массу общего. Это общее — эстетизация и глорификация насилия, оправдание и пропаганда насилия, государственного прежде всего. Государство, по существу, ставит себя выше морали и закона, властные амбиции правящей верхушки объявляются высшим общественным благом, ради которого можно убить полстраны.
Сила против интеллекта
Насилие было возведено в ранг добродетели, ему придавался чрезвычайно привлекательный вид — достаточно вспомнить советские и немецкие фильмы той поры, ту же «Олимпию» Лени Рифеншталь. Эстетика брутальности, массивных тел, циклопических строений, невероятных по масштабу строек коммунизма; культ грубой силы и насмешка над интеллектом, ущемление искусства, выстраивание всей предыдущей истории страны как бесконечной победной поступи государства и его армии, будь то войны освободительные или завоевательные; попытка решения сложных социальных и культурных проблем с помощью палки — это все из комплекса тоталитарного сознания. Оно может утверждаться — и утверждалось! — в самых грубых формах, как строительство ГУЛАГа в СССР или концентрационных лагерей в Германии, то есть через физическое уничтожение людей, а может использовать и более изощренные методы — например, форму философских дискуссий (напомню, что в Германии нацизм на заре своего возникновения нашел плодотворную почву в университетских аудиториях и профессорских кабинетах) или массированной пропаганды через театр, кино, средства массовой информации. Эта вербализация эстетики насилия, падая на ухоженную почву, создает что-то вроде философской базы для государственного насилия. В 30-е годы ХХ века было много стран, где элиты заигрывали с фашизоидными идеями, например, в Англии часть аристократии сочувствовала идеологии нацизма, но в силу исторической и культурной традиции это не получило серьезного развития. В России, увы, очарование насилием длилось многие десятилетия, и штамм его по-прежнему жив: насилие пронизывает наше общество и на уровне властных структур, и в сознании большинства из нас.
Панацеи нет
Часто приходится слышать: нельзя применять термин «тоталитаризм» к эпохе постсталинского Советского Союза, не говоря уже о нынешней России. Но вопрос не в сравнениях — необходимо уметь увидеть общие доминанты, понять, что вирус этот никуда не исчез, прививки от него в нашем Отечестве не было, а потому он, пусть и в ослабленной форме, может заразить власть и общество вновь.
Нам кажется, что рыночная экономика, частная собственность создают более плюралистическое поле, что они панацея от тоталитарного сознания, которое не терпит никакой соревновательности. Однако во многих авторитарных и тоталитарных европейских странах ХХ века, где не была отменена частная инициатива, действовал известный лозунг: «Друзьям — по любви, врагам — по закону». Что-то очень знакомое, не так ли?
За последние 10 лет бизнес поставлен на колени, мелкий и средний и вовсе изничтожен. Согласно последним опросам, только 2% граждан в России хотят создавать свое частное дело, тогда как в США — 70%, в Европе в среднем 25%. Все больше сфер экономики оказываются под монополией государственных корпораций, а формально частные компании выживают прежде всего за счет тесных связей с компаниями государственными. Таким образом, нарушается автономия бизнеса как института — его накрывает все то же всеобъемлющее государство. А значит, скукоживается и поле независимости от власти. Добавьте к этому атаку на независимые, неправительственные организации, которые объявляют иностранными агентами, — и вот третий сектор, и так крайне небольшой, начинает вытесняться в маргинальный угол. Одновременно с этим — вторжение в науку, образование, сферу частной жизни, и вот уже государство практически везде. Вместо десяти театров — один, вместо ста вузов — десять, чтобы легче было контролировать.
Однако беда в том, что управлять сложными, диверсифицированными социальными организмами из одного центра и посредством простых решений невозможно. Не работает. В лучшем случае начинается стагнация, в худшем — некроз или хаос. Так и тогда у государства появляется потребность в насилии, другими словами, переламывание через колено становится формой и методом управления.
Выходы
Вопрос, которым сегодня задаются многие: будущее предопределено или за его альтернативы можно еще побороться? Я не поклонник детерминизма: да, ситуация очень драматическая, но стоит задаться вопросом: а что мы, люди интеллектуальных профессий, сделали, чтобы такого развития событий не допустить? И что мы делаем сейчас, и достаточно ли того, что мы делаем? Есть ли какие-то способы донесения до большого количества людей других этических принципов и идей, нежели те, что звучат с экрана телевидения или из Государственной думы? Например, что функция государства — не подавление социальной активности и насильственное перераспределение финансовых и природных ресурсов, а координирование действий самоорганизующегося общества — так, как это с теми или иными девиациями и происходит в демократических странах.
Мне кажется, надо серьезно пересмотреть нашу собственную роль — я имею в виду людей творческих и интеллектуальных профессий. Мне много приходится ездить по конференциям и встречам, и одно неизменно поражает: невероятный снобизм интеллектуалов, их приверженность стереотипам, их неспособность говорить с окружающими на понятном им языке. Стереотипы, если чуть упростить, следующие: общество наше бездарно, оно ни к чему не способно, нас, интеллектуалов, никто не слышит, никто не ценит, а потому ситуация совершенно безнадежна. Так, в России не раз уже бывало: образованное сословие в разные времена создавало систему отгораживания от непросвещенной массы. Когда-то это был французский язык, когда-то элитарность жизнеустройства, от спецпайков до спецпансионатов и спецклубов — литераторов, архитекторов, кино.
Между тем вся послевоенная советская история являет собой пример борьбы общества за расширение приватного поля, борьбы за право на отдельную от государства частную жизнь. Павлик Морозов тогда уже перестал быть пионером-героем, хотя он и висел на каждой школьной доске: семья — святое, друзей и родных надо защищать от произвола государства — это стало входить в этику общества. Эта борьба за автономность от государства приобретала самые разные формы — от дикого туризма до домашних научных семинаров — и преследовала одну цель: создание поля свободы пусть и в масштабах «двушки» в спальном районе или палатки в тайге.
„
Выстраивание истории страны как бесконечной победной поступи государства — это все из комплекса тоталитарного сознания
”
Сегодня мы наблюдаем ровно то же самое: возьмите, к примеру, движение автомобилистов. Что это, как не самоорганизованное социальное движение? Многие не признают его за серьезное политическое сообщество, а зря. Ибо оно и есть язык постсоветского общества, в котором собственный автомобиль — это не только признак статуса, но и требование неприкосновенности частной жизни, и борьба за равные правила игры. Таких примеров социальной активности общества много. Но часто ли их замечают журналисты, социологи, политики? И знаем ли мы, что, какие процессы на самом деле происходят в российском социуме, или видим и замечаем только то, что ограничено рамками нашего скромного опыта?
Но не изучая это общество, мы с ним и говорить-то не можем — а оно жаждет разговора. А если мы и говорим, то часто люди воспринимают нас в штыки, но не потому, что все за твердую руку: они не понимают абстрактный язык теорий. «Демократия», «свобода слова», «либеральная экономика», «частная собственность» — пустой звук, пока под эти важнейшие идеи не будет подведен этический фундамент и пока эти термины не будут соотнесены с жизненной практикой людей. Вот эта идея, с одной стороны, отстаивания принадлежности России ко всему миру, идея открытости, а с другой стороны — понимания, что есть специфический язык общества, который надо воспринимать и уметь на нем говорить — ровно то, мне кажется, что должно быть первоочередной задачей для людей интеллектуальных профессий.
А много ли мы знаем учебников или исторических книг об опыте сопротивления тоталитарному режиму как у нас в стране, так и в других странах с похожими режимами? Вспомните, как пинали в 90-е академика Сахарова? Как высмеивали шестидесятников? Многие ли знают о советских правозащитниках, о послевоенном художественном нонконформизме? Между тем они — это наш, российский опыт зарождения и развития гражданского общества, опыт, который сегодня нам важен как никогда.
Нет, я не призываю бросить все и с посохом ходить в народ. Я предлагаю пересмотреть миссию интеллектуалов в современном обществе, осознать свою ответственность за ситуацию, в которой мы оказались, и понять: главная борьба — это борьба за умы людей. Тоталитарное сознание побеждает в том числе и потому, что не умеем, не хотим, боимся, отступаем мы.
фотография: Raymond Depardon/Magnum Photos/Grinberg Agency
Десятилетия страха не прошли даром: взрослым кажется, что чем более человек открыт и искренен, тем больше его жизнь в опасности
Мы быстро привыкли называть систему, в которой прожили
солидную, если не большую часть жизни, тоталитарной, а сомнительную
честь создания этой системы приписывать исключительно коммунистическим
идеям. Однако не будем переводить стрелку на идею, а посмотрим на то,
что ее воплощение совершилось в свойственном России тоталитарном стиле,
который можно проследить со времен если не Ивана Калиты, то уж
Петра I точно.
С болью и сожалением приходится признать, что мы не имеем в своей
истории демократических традиций, и в частности – традиции ненасилия.
Вот черты, которые социологи считают присущими «советскому человеку»:
догматичность сознания;
закрытость сознания живому опыту;
некритическое доверие к «коллективному разуму» или тому, что так
называется;
принятие ответственности на себя лишь за желательные результаты своей
деятельности с приписыванием нежелательных чему угодно – от климата до
происков врагов;
упование на внешние инстанции с адресованием им ответственности за
благополучие;
раздвоение частного и социального «я»; постоянный страх, отсутствие
чувства стабильности и безопасности;
недостаточное принятие себя и сниженное самоуважение;
недостаточное осознание своих чувств, переживаний, своего «я»;
поведение, строящееся не на стремлении к позитивным целям, а на
стремлении избежать неудач;
обесценивание настоящего, которое воспринимается лишь как точка
пересечения прошлого и будущего.
А также позитивное восприятие соединения добра и зла (ради благой цели
можно обмануть или нарушить закон) при подчеркнутой бескомпромиссности.
Разумеется, все это не диагностический список или перечень улик, по
которым мы должны сегодня делить людей на хороших и плохих, наших и не
наших, – это жилка тоталитарного сознания, которая бьется в каждом из
нас. Как же проявляет себя тоталитарное сознание в отношении к детям, в
воспитании?
Тоталитарное сознание внутренне конфликтно – оно говорит одно и делает
другое, знает одно и чувствует другое, страх в нем соседствует с
агрессивностью, а бескомпромиссность – с неразличением полярностей...
Каскад внутренних конфликтов тоталитарного сознания делает его
размытым, и неосознаваемая эта размытость, какие бы правильные слова ни
говорили детям, прорывается, заявляет о себе в неконтролируемом
(интонация, поза, жест) и не адресованном непосредственно ребенку
поведении взрослых.
Наказание ответственностью
Самая общая особенность тоталитарного воспитания – взаимное
противостояние взрослых и детей. Механизм ее проявления напоминает
своего рода воспитательную дедовщину, где самый младший обречен быть
крайним. Учитель, переживший разнос директора на педагогическом совете
при всех коллегах, проводит родительское собрание, где устраивает такой
же прилюдный разнос родителям Иванова, Петрова, Сидорова, которые
возвращаются домой и обрушивают лавину эмоций на детей. Дети в свою
очередь разряжают эту вертикаль насилия в так называемой горизонтальной
агрессии, направленной против равных себе.
Описанный процесс закономерен и не сводится только к передаче насилия –
все сложнее. Многие обращали внимание на то, что дети повторяют
болезненные и пугающие их вещи с куклами или животными (например,
делают уколы).
При этом достигается сразу несколько неосознаваемых целей: переход из
позиции слабого в позицию сильного; постижение ситуации – ребенок ведет
себя как исследователь; попытка ответить себе на вопросы, к чему
стремился и что переживал причинивший ему неприятное взрослый;
освобождение от психологической травмы через совершение того же...
Да, но мы же отвечаем за ребенка, говорят взрослые. Однако
ответственность эта принимается лишь за желательное в ребенке.
Вспоминаю женщину, бесконечно гордящуюся художественными способностями
одиннадцатилетнего сына и столь же бесконечно третирующую его за тройку
по математике. Да и в быту то же: вырастает хорошим – наша заслуга,
растет трудным, плохим – виноваты для родителей – школа, для школы –
родители, для тех и других – улица, сам ребенок, плохая
наследственность.
А поскольку тоталитарное сознание стремится прежде всего избежать
неудач, поведение взрослых строится так, словно ребенок впитал в себя
к моменту рождения все зло мира и выкорчевать его – главная задача
воспитания.
Вместо обучения навыкам опрятности – борьба с нечистоплотностью, вместо
воспитания доброты – борьба с жадностью… При этом вдобавок видение
ребенка через «функции» к тому, что оценивается не качество, не успех
или неуспех, а сам ребенок: плохо вымыл шею, не доел, получил двойку –
«Ты плохой!» Такая тотальная негативная оценка воспринимается детьми
как вызывающее глубокий страх отвержение взрослыми.
Так ли уж трудно сказать: «Вот это у тебя не очень удачно вышло. Давай
посмотрим, как сделать лучше?» Вместо этого звучит: «Растяпа, недотепа,
лодырь, и откуда у тебя руки растут, чем ты думаешь?» Взрослый почти
постоянно обращается не к ребенку, а к «злу» в ребенке, так что от
любви до ненависти часто и правда всего шаг.
Любовь как ненависть
Десятилетия страха не прошли даром: взрослым кажется, что чем
более человек открыт и искренен, тем больше его жизнь в опасности.
Отсюда осознаваемое лишь отчасти стремление взрослых лишить ребенка его
индивидуальности. Ребенок не принимается таким, какой он есть. Ему
предписывается быть и стать «как все», «каким надо». И тогда
трехмесячного Штольца связывают пеленками, а рядом с ним такого же
маленького Обломова достают из пеленок, чтобы заставить его двигаться.
Борьба за ребенка становится борьбой против ребенка, против того, что
делает его самим собою и личностью.
Заниженные самооценка и самоуважение «советского человека» превращают
отношения с детьми из сферы самореализации в площадку для
самоутверждения. Главенствуя над ребенком, взрослый подтверждает свою
значимость, самоуважение. При этом главной добродетелью ребенка
оказывается послушание. А когда инструмент обучения этой добродетели –
насилие, то в ответ либо возникает непослушание как протест, либо в
ребенке убивается инициатива: и то и другое вызывает новую волну
воспитательного насилия.
Раздвоенность приватного и социального «я» создает неразрешимые
конфликты и для взрослого, и для ребенка. Мать шестилетней девочки
готова госпитализировать ее в психиатрическую больницу из-за упрямства
и непослушания, стремления во что бы то ни стало командовать всеми и
добиваться своего; но в ее рассказе о том, что девочка сгонит с пустой
огромной скамейки единственного ребенка, чтобы сесть самой, звучит
оттенок любующейся удовлетворенности. В ответ на вопрос о том, на кого
девочка похожа по характеру, слышу: «Я понимаю, доктор, что вы имеете в
виду. Но мне-то она должна подчиняться!» Блестяще освоенный взрослыми
язык двоемыслия недоступен ребенку, который то и дело попадает из-за
этого впросак.
Осознавать свои чувства – значит строить более эффективное общение, но
как раз эта способность у взрослых чаще всего отсутствует.
Паралич самосознания – не что иное, как механизм приспособления к
агрессивной среде. Гораздо проще приказывать, внушать, разъяснять,
призывать, одергивать, пряча за слова и от себя, и от детей истинные
переживания. Психологическое насилие – даже эпизодическое – делает
насильственной всю атмосферу воспитания и отношений взрослых с детьми.
Ребенок перестает верить даже жесту добра. И душа его не живет и
развивается, как подобает душе свободного человека, а выживает в этом
ГУЛАГе детства.
Понятие тоталитарное сознание неотделимо от понятия тоталитарная культура. Тоталитарное сознание характеризуется символическими образами - атлет, борец, вооруженный воин, готовые к преодолению трудностей, выполнению почетного задания или подвига; дородная мать-героиня, воплощающая плодородие земли. Оно проявляется также в том, что граждане под гнетом идеологической лжи, помпезности и преувеличенного оптимизма идеализируют одного лидера вождя, снисходящего до общения с простым народом. Таковым в СССР был Сталин, в Германии Гитлер, Муссолини в Италии, Мао Цзэдун в Китае. В учении тоталитарного сознания четко прослеживается цель: внушить множеству субъектов, что они обладают значимостью, но только как единица целого аппарата, обладают ценностью, но только как трудовая единица, и что каждый человек в отдельности не обладает значимостью, ценностью и есть ничто , а значимость и ценность имеет только народ , масса в целом . "Ты - ничто, а твой народ - всё " (Гитлер).
Возвеличивание Сталина в СССР достигало огромных масштабов. Вот некоторые выдержки из дневника А.Г Соловьева, работника МГК ВКП(б):
Бауман (член бюро МГК.) информировал о подготовке празднования 50-летнего юбилея т. Сталина. Празднование намечено широко по всей стране: приветствия, собрания, митинги, популяризация... Решили присвоить имя Сталина Бобриковской электростанции, строящейся в Тульском округе, и создать денежный фонд т. Сталина для детей, обучающихся в вузах и втузах.
Все газеты впервые опубликовали портреты т. Сталина и многочисленные статьи. В них т. Сталин именуется вождем мирового пролетариата. Отмечаются его колоссальные заслуги в разгроме троцкизма, правого оппортунизма, развертывании индустриализации и коллективизации и колоссальная роль в создании партии и победе социалистической революции. Очень высокая оценка. Такой не бывало.
Продолжается возвеличивание т. Сталина. Вышла брошюра под названием «Товарищ Сталин». В ней 270 страниц. На 13 страницах помещен перечень приветствий... не менее 700 приветствий... Кричащие лозунги: ... «Вождю революционной мировой партии»... Напечатаны на 86 страницах восторженные статьи 16 крупнейших руководителей партии и страны... «Рулевой большевизма»... «Крупнейший теоретик»... «Организатор побед Красной Армии»... Конечно, т. Сталин великий человек. Но не слишком ли чрезмерны похвалы? Выходит, т. Сталин выше т. Ленина, выше всей партии? Может быть, я не прав, но чувствуется в этих грандиозных похвалах некоторая искусственность, не все искренно. Где скромность, которую требовал т, Ленин и требует партия в своих решениях? Как мог допустить т. Сталин такое излишнее восхваление? У меня начинают возникать о нем сомнения, действительно ли он такой великий»
Мнения о личности Сталина не однозначны: для одних людей он - символ могущества страны, ее ускоренной промышленной модернизации, беспощадной борьбы со злоупотреблениями. Для других - кровавый диктатор, символ деспотизма, безумец и преступник. Только в конце 20 в. в научной литературе эта фигура стала рассматриваться более объективно.
ТОТАЛИТАРНОЕ СОЗНАНИЕ И РЕБЕНОК:
СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В. Е. КАГАН
Расширенный текст доклада на Международной конференции "Современная семья: проблемы, решения, перспективы развития " (Москва, 22 - 25 октября 1991 г.).
Г. Померанц
С. Аверинцев
Мне страшно младенчество зла, первый поворот добра к злу, первые его робкие, прелестно нетвердые шажки. Розовые пальчики, которые завтра сожмут топор.
Г. Померанц
Если рука пианиста лежит на клавишах, как ей положено, ей не сжаться в кулак,- два положения несовместимы.
С. Аверинцев
Поразному можно представлять себе то чудо, которое, возможно, "поможет одолеть Черного человека в мире взрослых, чтобы он никогда не появлялся в мире детей " . В немалой мере это зависит от того, как мы представляем себе Черного человека. Четверть века "живой " работы в качестве детского психиатра и психотерапевта и передача этого опыта врачам, психологам, педагогам и родителям побуждали меня к тому, чтобы искать секрет метафорической фигуры Черного человека в той сфере, в которой мы можем оказаться реальными и эффективными помощниками, т. е. в самом ребенке и его непосредственном окружении без обращения к политическим категориям и глобальным социальным процессам. Тут сказывалось многое: и пройденная профессиональная школа, и система социальных табу (которые, впрочем, каждый волен был нарушить, иное дело - какой ценой), и - не в последнюю очередь - тем большая необходимость помощи развитию личности и личностному росту, чем больше препятствует этому широкий социум. В этой становившейся привычной системе счисления социальнополитический климат, как бы он ни воспринимался самим специалистом, выступал в качестве некоей данности, прямо не связываемой с тем, остается человек "нормальным " или развитие его отклоняется от "нормы ". Однако накапливавшийся годами опыт все настойчивее побуждал соотносить не только человека с "нормами ", но и "нормы " с человеком, задаваться вопросом о том, как психологический климат больного общества сказывается на людях: их житейских представлениях, поведении и переживаниях, кажущихся то сугубо приватными, то настолько общечеловеческими, что вроде бы они и не должны быть подвержены влияниям политических ветров. Так складывались первые подходы к постановке проблемы, которую в общем виде можно обозначить как "Тоталитарное сознание и ребенок ".
Актуальность ее в настоящее время подчеркивается точно отмеченным Л. Я. Гозманом и А. М. Эткиндом обстоятельством : крушение системы тоталитаризма, разрушение типичных тоталитарных иллюзий вызывает сложный эмоциональный комплекс утраты, сравнимый с абстинентным синдромом при наркомании; в этих условиях эпицентр воспитания тоталитарного сознания перемещается из области официальной культуры и средств массовой пропаганды в область межличностных отношений, в том числе семейного воспитания. Лишаясь привычной тоталитарной среды, тоталитарное сознание выходит в реальность духовного вакуума : не завоевав, а лишь получив свободу, тоталитарная личность как субъект проявляет свой агрессивноразрушительный потенциал, а как объект восприимчива к самому примитивному и грубому манипулированию . Тоталитарное сознание сегодня может проявляться, а как показывает послеавгустовский опыт, и проявляется, даже в более ярких и
болезненных формах, чем раньше. Получивший свободу и еще не умеющий быть свободным, опасный и достойный сострадания, потерявший и ищущий себя тоталитарный человек может находить в своем тоталитарном сознании стабилизирующее начало и транслировать его в семейном воспитании.
Обратиться к семье и семейному воспитанию побуждает и то, что на протяжении многих десятилетий они были особыми объектами тоталитарной политики и пропаганды. По количеству программ семейного воспитания мы определенно заслуживаем места в книге рекордов Гиннеса. Их создание определялось стремлением к достижению тоталитарного единообразия, направлявшимся сугубо вербальной, выдающей желаемое за действительное предпосылкой: "В условиях социалистического общества интересы родителей как воспитателей своих детей совпадают с интересами государства " . Тот простой факт, что реальные образцы деятельности сильнее вербальных правил, никак не останавливал создателей подобных программ, впрочем, и не ждавших, что реальная семья будет ими пользоваться. Справедливо спросить: что же, кроме служебного рвения, скрывалось за упорными попытками программирования семейного воспитания?
Ответ на этот вопрос находим в утопиях. Будь то по классификации Ф. Аинсы утопии свободы или утопии порядка, именно семья оказывается для них камнем преткновения. Для утопий свободы она слишком упорядочена, для утопий порядка непозволительно свободна. Ни принять, ни опровергнуть притягательность мира семьи с его сплоченностью, интимностью, таинственностью, жизнью по собственным законам утопии не могут. Складывающиеся в мире семьи системы родственных связей и эмоциональных привязанностей, самоценность и самодостаточность семьи, ее творческая, а потому непредсказуемая динамика не вписываются в утопические модели ни свободы, ни порядка. Остается один выход - отвергнуть, что утопии и делают, каждая на свой лад уничтожая семью как таковую или посягая на ее интимность, приватность, креативность, духовное воспроизводство.
В отличие от мечты, фантазии, сказки, рисующих перспективы человеческих возможностей и самореализации через свободное творчество и ответственный выбор, утопии по механизму зеркальной симметрии "плохого " настоящего и "хорошего " будущего предписывают человеку некий якобы целесообразный и жестко ограниченный этой "целесообразностью " круг возможностей, в котором человек приговорен к свободе от творчества и выбора как жизненных принципов. И в этом смысле утопия и свобода - антонимы. Утопии посягают на наиболее интимные стороны бытия и сознания: это посягательство так же отличает утопию от сказки (фантазии, мечты), как отличает тоталитаризм от автократии: любая утопия в существе своем есть отрицание свободы и тоталитаризм. Даже для сторонников радикального уничтожения семьи, каким был Платон, очевидна невозможность этого и необходимость жесткого "программирования " семьи.
Воплощение порожденной тоталитарным сознанием коммунистической утопии неизбежно обернулось тоталитаризмом, по отношению к которому семья выступала диссидентом, для которого лучшая одежда - смирительная рубаха. На протяжении более 70 лет атаки на семью велись постоянно и по всем фронтам. Воинствующие антитрадиционализм и атеизм разрушали ритуальнообрядовую сторону брака, вводившую семью в референтную социальную группу, сформированную на основе исторической и духовной общности верований, традиций, нравственных ценностей. Место брачного обряда заняла регистрация безразличным служащим от лица безличного государства "актов гражданского состояния ", равно включающих в себя брак и смерть. Этнокультурные брачные и семейные традиции так или иначе преследовались и вытеснялись унифицированными требованиями. Идеологическая селекция половой и сексуальной культуры
превращала ее в кафкианского монстра, уродующего культуру брака, подрывающего физическое и психическое здоровье семьи и ребенка. Идея коллективного воспитания, идущая еще из утопий и всегда встречавшая в России поддержку и справа и слева, воплощалась в монополии государства на воспитание, реализуемой тем более энергично, что позволяла привлечь массу женщин в качестве дешевой рабочей силы. Первые детские колонии, призванные справиться с волной порожденного победой тоталитаризма беспризорничества, вырабатывали новые принципы коллективной педагогики, которые тут же становились предметом политических спекуляций и распространялись на воспитание в целом, в том числе и семейное. Школа из помощника семьи превращалась в очаг воспитательной инквизиции. Искушение славой тысяч реальных и мифических Павликов Морозовых готовило массовое сознание к добровольному отказу от родственных и семейных уз во имя ценностей тоталитарного государства. Канонизация брака исключительно по любви, убедительно опровергаемая С. И. Голодом , имела свой психологический смысл, благодаря которому шла и "сверху " и "снизу ": она создавала базисы или (чаще) миражи личностной суверенности, свободы выбора, приватности, счастья, становясь гиперкомпенсацией тоталитарных отчуждения и духовного рабства. Все это и многое другое было направлено не на семью как форму иерархической организации общества (она воспевалась как "ячейка общества "), а на те функциональные связи, которые, собственно, и делают семью семьей - системой в системе, противопоставляющей сплоченность и ценности семьи насилию государства.
В ходе адаптации семьи к тоталитарным контролю и программированию формировались тенденции: а) превращения ее в мир "внутренней эмиграции ", б) фактического или психологического отрицания семьи как продолжения тоталитарного прессинга на личность, в) формирования "фантомной семьи ", в которой тенденции первого и второго типов находятся в состоянии перманентного конфликта, компенсируемого психозащитными формами и стилями супружеского и родительского поведения. Как бы то ни было, трансляция семейных традиций, духовное воспроизводство семьи оказываются обедненными и искаженными, а тоталитарное сознание - тесно вплетенным в семейное воспитание.
Но что такое тоталитарное сознание? В литературе последних лет оно описывается как социокультурный феномен под разными названиями. "Советский синдром " включает в себя: "ощущение своей принадлежности к великому, сильному и доброму народу; ощущение своей включенности в движение по магистральному пути мировой цивилизации; ощущение своей подвластности могущественному, никогда не признающему своих ошибок государству; ощущение своей безопасности среди равных друг другу людей, живущих общей жизнью и всегда готовых прийти на помощь; ощущение своего превосходства над порочным и не признающим очевидных истин миром " . Феномен гомо советикус описывается как догматичность сознания, закрытость его эмпирическому опыту при некритическом доверии к "коллективному разуму "; расщепленность сознания, раздвоенность приватного и социального Я; инфантильная экстернальность упований на внешние инстанции и перенос на них ответственности за неудачи; постоянный страх, отсутствие чувства стабильности и безопасности; ведущий мотив поведения - избегание неудач, а не достижение новых позитивных результатов; занижение самооценки и чувства собственного достоинства, недостаточное принятие своего Я; недостаточная рефлексивность при высокой нормативности; специфическое восприятие и организация времени, когда настоящее - лишь точка пересечения симметричных прошлого и будущего . Для понимания тоталитарного сознания принципиально важны описанные В. А. Лефевром (см. ) особенности этических установок у представителей демократической и тоталитарной культур.
Сравнивая этические установки коренных американцев и живущих в США выходцев из СССР, он показал, что первые негативно оценивают соединение добра и зла и позитивно - их разделение, предпочитая поиск компромиссов, тогда как вторые соединение добра и зла воспринимают позитивно, их разделение - негативно, предпочитая бескомпромиссность. Доминирование в обществе второй этической системы является симптомом антропологической катастрофы, которая может иметь губительные последствия не только для данного общества, но и на глобальном уровне (цит. по ).
Но, как представляется, феномен тоталитарного сознания сказанным не исчерпывается. Э. Гринвальд , рассматривая Я как организацию знания, отмечает, что оно характеризуется познавательными склонностями, поразительно похожими на тоталитарные информационноконтрольные системы, описанные, например, Дж. Оруэллом. Он называет триаду таких склонностей: эгоцентричность (Я как фокус знания), принятие ответственности лишь за желательные результаты деятельности при отказе от ответственности за результаты нежелательные, когнитивный консерватизм - устойчивость к познавательным изменениям. По его мнению, этот обозначаемый им как "тоталитарное Я " комплекс свойств нормального человеческого познания играет охранительную роль в организации когнитивных структур. Он видит в этом аналог генетической эволюции, образующий альтернативу преимущественно мотивационным и информационным интерпретациям когнитивных склонностей. Иными словами, "тоталитарное Я " выступает как антитеза "дезорганизованному Я " с познавательным фокусом вне себя, "полевым " характером познавательных процессов и атрибуцией ответственности лишь за неудачи. В таком случае "тоталитарное Я " ответственно не только за упорядоченность познавательных процессов, но и в некоем оптимальном сочетании со своей противоположностью - за креативность и эффективность поведения.
Выраженная асимметрия таких сочетаний рассматривается уже медицинской психологией и психиатрией, связывающими различные проявления эгоцентричности мышления, его ригидности и снижения критичности к результатам деятельности с определенными типами невротических формирований личности, акцентуаций характера и психопатий.
Как можно видеть, "тоталитарное Я ", или тоталитарное сознание, выступает, по крайней мере, в трех уровневых ипостасях: как общепсихологический когнитивный механизм, как индивидуальноличностное образование и как социокультурный феномен. Нетрудно также отметить, что описанная Э. Гринвальдом триада рельефно выступает в социокультурных описаниях тоталитарного сознания, отдельные свойства которого суть не ортогональные черты, а взаимосвязанные грани отчуждения личности.
Отсюда следует, что система тоталитаризма не просто механически навязывает всем без исключения своим членам якобы изначально чуждое им тоталитарное сознание, но апеллирует к уже существующим общепсихологическим и личностным его предпосылкам. Для этого она создает условия закрытости реальному опыту (от "железного занавеса " до цензуры, систем дезинформации и контролирующих состояние умов "добровольных помощников "), насаждает единообразный набор клишированных нормативов осмысления жизни, себя и своего места в жизни, фокусирует сознание на "великих ", "грандиозных ", "небывалых " победах и достижениях (от лозунгов "Слава труду! " и разветвленной системы наград и поощрений публичного характера по всякому поводу и без оного - до "строек века ", едва ли снившихся и Хеопсу). Одновременно тоталитаризм выдвигает на первый план людей, в характере личности которых свойства "тоталитарного Я " или на худой конец способность более или менее убедительно их имитировать занимают ведущее место. Массовое сознание, таким образом, не только вводится в тоталитарную колею, но
и получает идентификационные образцы тотализированного "идеального Я ". И, стало быть, главная цель тоталитарной системы - не просто трансформация личности, обеспечивающая ее подчинение системе, а также трансформация, в ходе которой человек "открывает " в себе общепсихологическое или индивидуальноличностное "тоталитарное Я ", с которыми и идентифицирует свое целостное актуальное Я.
В этой связи В. А. Лефевр тонко и точно подмечает, что в бесчисленных судебных процессах 30-50-х гг. фальсифицировалось все, кроме подписи обвиняемого под признанием; именно ее получение и было истинной целью процесса со всеми фантасмагорическими обвинениями, лжесвидетельствами, пытками и т. д. Ставя подпись, человек изменял свою идентичность. Замечу, что этот метод модификации, реидентификации личности использовался и продолжает использоваться отнюдь не только в стенах тюрем: публичные суды и судилища с публичными же отречениями от родных и признаниями в несуществующих грехах, замаскированные под принципиальность уничтожительная самокритика и способность публичного признания критики с принесением публичных извинений обществу, партийной, комсомольской, профсоюзной, пионерской, октябрятской организациям, классу, семье,- все это выполняло роль подписи под признанием, выступало в качестве ее аналога, искажающего личностную идентификацию и формирование сознания.
Итак, тоталитарное сознание в принципе несводимо лишь к его социокультурному аспекту, который и сам находит почву и поддержку во вполне определенных моментах организации познавательных процессов и личности. И это еще один весомый мотив, стимулирующий обращение к взаимосвязи тоталитарного сознания и семейного воспитания. Разумеется, "здесь бессмысленно ожидать открытий вроде открытия микрочастиц, хромосом и т. п. Открытием здесь может быть лишь фиксирование очевидного и общеизвестного в некоторой системе понятий и утверждений и умение показать, как такие тривиальности выполняют роль законов бытия людей " , в нашем случае - семейного воспитания.
Самое общее влияние на семейное воспитание заключается во внутренне конфликтной противоречивости самого тоталитарного сознания и личности родителей, как его - в той или иной, но всегда присутствующей мере - носителей. Каждое из противоречий (между заниженной самооценкой и гиперкомпенсаторным ее завышением, приватным и социальным Я, эгоцентричностью мышления и сверхдоверием к коллективному разуму, избирательной атрибуцией успехов и заниженным самоуважением и т. д. и т. п.) возводится в степень конфликта, существующего между декларативными и реальными значениями, когнитивными и эмоциональными аспектами Я. Результатом этого каскада конфликтных противоречий становятся размытость и конфликтность аутоидентификации взрослого как активного воспитателя и как идентификационного образца для ребенка. Отсюда - размывание либо компенсаторная или гиперкомпенсаторная психозащитная деформация идентификационных процессов у ребенка, препятствующие формированию зрелой рефлексии, формирующие невротическую идентичность, способствующие фрагментарности идентификации. Эта "идентификационная растерянность " очень часто выступает в ходе психологического консультирования.
Наиболее выпуклая и яркая черта тоталитарного семейного воспитания - противостояние взрослых детям, вызывающее ответное противостояние детей взрослым. Механизмы этого противостоянию неоднозначны и сложны. Подобно тому, как перенесший операцию ребенок "делает операции " своим куклам, семья отреагирует переживания тоталитарного прессинга в общении с ребенком. Этот неосознаваемый механизм подвергается различным рационализациям, общей чертой которых является подчинение второй этической системе В. А. Лефевра, в
которой добро неразрывно спаяно со злом и господствуют бескомпромиссность и конфронтация. Родители исполнены самых добрых побуждений, но руки этого добра чаще скрещены на груди, вытянуты в указующеповелительном жесте или сжаты в кулаки, чем раскрыты для объятий.
Семья чувствует ответственность за развитие ребенка, но принимает ее парциально: все желательное - результат нашего воспитания, все нежелательное - вопреки ему, из-за дурного влияния друзей, улицы, школы, средств массовой информации и проч. Это, с одной стороны, закрепляет те паттерны воспитания, которые якобы уже подтвердили свою эффективность, и делает их ригидными, а с другой - приводит к тотальному контролю всей жизни ребенка, переживаемому им как недоверие, отрицание, унижение и вызывающему протест. Эта по определению непродуктивная тактика приводит к тому, что так часто отмечают матери: "Я все забросила ради него, а в ответ не вижу ничего, кроме неблагодарности ". При этом не только физическая, объективная загруженность родителей, но и диктуемая заниженным самоуважением гиперкомпенсаторная потребность в самореализации часто заставляют родителей чувствовать себя "жертвами " ребенка, хотя на самом деле они уделяют ему далеко не так много внимания, как им кажется.
А поскольку тоталитарное сознание стремится прежде всего избежать неудач, поведение родителей строится так, как если бы ребенок был не просто "чистой доской ", а изначально нес в себе все зло мира, выкорчевать которое - и есть добро воспитания. В этой "корчующей " педагогике ребенок из субъекта социального взаимодействия превращается в объект воздействия, манипулирования. Вместо воспитания навыков опрятности и личной гигиены - борьба с нечистоплотностью, вместо воспитания щедрости - борьба с жадностью и т. д. Взрослый почти постоянно апеллирует к "злу " в ребенке, так что от его любви до ненависти часто действительно всего шаг. Взаимная любовь ребенка и родителей нередко похожа на треснувшую или склеенную чашку, из которой невозможно напиться.
Скованная ограничениями тоталитарного бытия и собственного тоталитарного сознания семья в любом проявлении самости ребенка, которая не согласуется со стандартами этого бытия, видит прямую угрозу его будущему, а потому стремится эту самость подавить, отсечь. Ребенок не принимается таким, каков он есть. Ему предписывается быть таким, каким он быть не может или не хочет; это становится либо магистральной целью воспитания, либо платой ребенка за право хоть в чемто быть самим собой. Весьма характерно, что в оценке и восприятии ребенка на первом плане оказываются сугубо внешние по отношению к нему и семье критерии. 8летний мальчик с астеническим неврозом, сложившимся в ходе непримиримой борьбы его родителей за получение хороших оценок по пению (?! - по всем остальным предметам он учился на "4 " и "5 "), сказал мне: "Я понимаю, что нужно петь хором - тем более, у нас страна такая! Но я же не виноват, что люблю петь один! "
Заниженные самооценка и самоуважение взрослых переводят родительское поведение из сферы самореализации в сферу самоутверждения. Партнерство с ребенком как личностью вытесняется потребностью в главенстве над ним, сообщающем взрослому дополнительное чувство собственной значимости и самоуважения. Послушание при этом рассматривается как одна из главных добродетелей ребенка. При этом в силу сказанного выше родители почти постоянно провоцируют "протестное " поведение и, следовательно, непослушание. К тому же, желая видеть своего ребенка уверенным и способным пробивать себе дорогу в жизни, они вольно или невольно учат его "качать права " за пределами семьи. Мать 6летней девочки готова госпитализировать ее в психиатрическую больницу из-за упрямства, непослушания, стремления во что бы то
ни стало настоять на своем. Но в ее жалобе на то, что дочь прогонит с огромной скамейки одногоединственного ребенка, чтобы сесть самой, звучал налет любующейся удовлетворенности. В ответ на вопрос о том, на кого девочка похожа по характеру, мать сказала: "Я понимаю, доктор, что вы имеете в виду. Но мнето она должна подчиняться! "
Язык раздвоенности приватного и социального Я - язык двоемыслия, освоенный взрослыми, но трудный и для них, недоступен ребенку, из-за чего он то и дело попадает впросак, навлекая на себя родительский гнев. Если же этот язык и осваивается, то страдают семейные связи, ибо у ребенка самоопределение в семье вытесняется раздвоенностью его личного и семейного Я.
Свойственная тоталитарному сознанию недостаточная рефлексия, неумение отдавать себе отчет в собственных чувствах и зрелым образом выражать их приводит к выбору, на первый взгляд, самого короткого и надежного, но в действительности самого длинного и тупикового пути воспитания - вербального. Практика психологического консультирования постоянно показывает, как трудно родителям, даже с помощью консультанта, выйти на обсуждение собственных и детских переживаний в связи с той или иной ситуацией. В семейном общении, с одной стороны, возникает дефицит позитивной эмоциональной экспрессивности, а с другой - становится правилом неконтролируемое проявление вытесняемых негативных эмоций. Очень точно это передал в своем стихотворении 12летний петербуржец Сережа Тишков:
Какой я веселый мальчик,
я мальчик веселый.
Какой я веселый мальчик,
ужасный я весельчак.
А папа такой угрюмый,
мой папа, мой папа.
И очень мрачная мама,
мама родная моя.
Бабушка смотрит волком,
учительница туча тучей,
насупленный другтоварищ
и дедушка сыч сычом.
А я ничего, я веселый,
пою себе и танцую.
Раз все вокруг такие,
что мне теперь - умирать?
Не слишком ли много отчаяния в этой защите своего права на веселье? Можно порадоваться за ребенка, остающегося ребенком даже в так воспринимаемой обстановке. Но можно и задаться вопросом: где, собственно, пролегает граница между сохранением себя и глухотой к эмоциональному состоянию других людей? Конечно, у родителей есть потребность приласкать ребенка и - нередко - явное или смутное чувство вины за недостаточность проявлений ласки. Но из-за той же недостаточной рефлексивности они прорываются спонтанными выбросами ласки вне актуального контекста общения, так что ребенок вынужден, обязан принимать ласку и отвечать на нее вне зависимости от собственного настроения в этот момент, даже в такой, казалось бы, столь приятной ситуации опять оказываясь не партнером взрослого, а лишь объектом его манипуляций.
Комплекс свойств тоталитарного сознания определяет и содержание вербального воспитания. Львиную долю в нем занимают "нельзя ", "не надо ", "плохо " и т. д. Вместе со всем уже сказанным это приводит к тому, что оценка поступка подменяется оценкой ребенка: "ты плохой ". Ребенком это воспринимается не только как удар по самоуважению, но и как угроза его отторжения даже тогда, когда не звучат столь типичные для нашей культуры прямые запугивания ("Отдам медведю, милиционеру, чужому дяде ", "Сдам и возьму хорошего " и проч.). Живущий в постоянном страхе и знающий, что "все - нельзя ", ребенок не может самостоятельно вывести, что и как надо, можно, хорошо. Он живет в мире идентификации "от противного ", как правило, непосильной для его только еще формирующегося сознания.
Вместе с тем ребенок остро нуждается
в упорядочении картины мира и своего Я, достижении эффективного поведения. И опорой в этом, особенно при наличии некоторой личностной предрасположенности, оказываются эгоцентричность познавательных процессов, предпочтительная атрибуция успехов и склонность придерживаться уже выработанных познавательных стратегий, т. е. описанное Э. Гринвальдом "тоталитарное Я ".
По существу, тоталитарное сознание придает семейному, и не только семейному, воспитанию характер психологического насилия. Учащающиеся случаи физического и сексуального насилия над детьми выступают, с одной стороны, как его продолжение, а с другой - в роли пыток, призванных подчинить ребенка психологически. Вот рассказ одного из отцов: "Никогда дочку пальцем не трогал, но тут не выдержал. И знаете, бью и не могу бить, и думаю: хоть бы заплакала, и я перестану. Не плачет! Я уже сам плачу и чуть ли не молюсь: да заплачь ты, ведь не хочу я тебя бить, не могу! ". Осуществляется психологическое насилие обычно по типу "идеального преступления ", в котором алиби родителей обеспечено их безграничной любовью и благими намерениями. Короткая зарисовка О. Григорьева точно передает этот механизм:
Зажав кузнечика в руке,
сидит ребенок на горшке.
Нельзя живое истязать! -
Я пальцы стал ему ломать.
Нельзя кузнечиков душить! -
Я руки стал ему крутить.
На волю выскочил кузнечик.
Заплакал горько человечек.
Атмосфера тоталитарного сознания и порождаемого им насилия создает тот контекст семейного воспитания, в котором даже отдельные ненасильственные действия воспринимаются ребенком как насилие, вызывая неожиданные для взрослых эффекты, вновь стимулирующие тактику насилия. Тоталитарное сознание взрослых стимулирует гипертрофию существующих в структуре личности предпосылок "тоталитарного Я ", дополняя внешние препятствия к личностному росту внутренними.
Было бы ошибкой свести все к расхожей сегодня логике, согласно которой "у нас все плохо ",- затронутые вопросы волнуют исследователей развития и воспитания личности во всем мире. Однако не меньшей ошибкой было бы игнорирование влияния тоталитарного сознания (индивидуального или социокультурного) на формирование личности. Перед исследователями семейного воспитания встает, таким образом, задача изучения условий и механизмов формирования тоталитарного сознания, его эффектов и межпоколенной трансляции. Междисциплинарный и межкультурный характер проблемы "Тоталитарное сознание и ребенок ", ее методологическая и методическая сложность определяют потребность в создании специальных исследовательских проектов и программ помощи. Но решение этой проблемы остро актуально, ибо тоталитарные системы, первыми моделями которых были утопии, порождаются тоталитарным сознанием - этим сверхоружием, которое человек носит в себе самом.
1. Аинса Ф. Нужна ли нам утопия // Курьер ЮНЕСКО. Апрель 1991. С. 13-16.
2. Асмолов А. Г. Предисловие к книге: К. Бютнер. Жить с агрессивными детьми. М., 1991.
3. Бистрицкас Р., Кочюнас Р. Homo Sovieticus или Homo Sapiens: Несколько штрихов к психологическому портрету // Радуга (Таллинн). 1989. № 5. С. 78-82.
4. Виноградов И. Лик, лицо и личина народа // Искусство кино. 1991. № 5. С. 11-21.
5. Гозман. Л. Я., Эткинд А. М. Метафоры или реальность? Психологический анализ советской истории // Вопр. филос. 1991. № 3.
6. Голод С. И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты. Л., 1984.
7. Гусейнов Г. Словарный запас // Век XX и мир. 1990. № 6. С. 42-44.
8. Зиновьев А. Зияющие высоты. М., 1990.
9. Кордонский С. Советский человек как объект сострадания // Век XX и мир. 1990. № 10. С. 28-34.
10. Мамардашвили М. К, Сознание и цивилизация // Природа. 1988. № 11. С. 57-65.
11. Семейное воспитание: Краткий словарь. М., 1990.
12. Шрейдер Ю. А. Человеческая рефлексия и две системы этического сознания // Вопр. филос. 1990. № 7. С. 32-41.
13. Greenwald A. The totalitarian ego: Fabrication and revision of personal history // Am. Psychol.1989. V. 35. N 7. Р. 603-618.
источник неизвестен
Мы подошли к драматической черте. И причина того, что с нами сегодня происходит, не в политиках, хотя и в них тоже. Главная наша беда — в тоталитарном наследии, которое живет в сознании современного российского общества.
Если мы сравним нацистскую Германию и фашистскую Италию во второй четверти прошлого века (а также франкистскую Испанию, Португалию времен Салазара, маоистский Китай и т.д. в разные периоды XX века) с более близкой нам историей, которая прошла под флагом коммунистической доктрины, то мы увидим массу общего. Это общее — эстетизация и глорификация насилия, оправдание и пропаганда насилия, государственного прежде всего. Государство, по существу, ставит себя выше морали и закона, властные амбиции правящей верхушки объявляются высшим общественным благом, ради которого можно убить полстраны.
О метафорах советского прошлого и о том, почему они воспроизводятся в настоящем
Открытие Олимпийских игр в Москве, 1980 г. | фото: Raymond Depardon/Magnum Photos/Grinberg Agency
СИЛА ПРОТИВ ИНТЕЛЛЕКТА
Насилие было возведено в ранг добродетели, ему предавался чрезвычайно привлекательный вид — достаточно вспомнить советские и немецкие фильмы той поры, ту же «Олимпию» Лени Рифеншталь. Эстетика брутальности, массивных тел, циклопических строений, невероятных по масштабу строек коммунизма; культ грубой силы и насмешка над интеллектом, ущемление искусства, выстраивание всей предыдущей истории страны как бесконечной победной поступи государства и его армии, будь то войны освободительные или завоевательные; попытка решения сложных социальных и культурных проблем с помощью палки — это все из комплекса тоталитарного сознания. Оно может утверждаться — и утверждалось! — в самых грубых формах, как строительство ГУЛАГа в СССР или концентрационных лагерей в Германии, то есть через физическое уничтожение людей, а может использовать и более изощренные методы — например, форму философских дискуссий (напомню, что в Германии нацизм на заре своего возникновения нашел плодотворную почву в университетских аудиториях и профессорских кабинетах) или массированной пропаганды через театр, кино, средства массовой информации. Эта вербализация эстетики насилия, падая на ухоженную почву, создает что-то вроде философской базы для государственного насилия. В 30-е годы ХХ века было много стран, где элиты заигрывали с фашизоидными идеями, например, в Англии часть аристократии сочувствовала идеологии нацизма, но в силу исторической и культурной традиции это не получило серьезного развития. В России, увы, очарование насилием длилось многие десятилетия, и штамм его по-прежнему жив: насилие пронизывает наше общество и на уровне властных структур, и в сознании большинства из нас.
ПАНАЦЕИ НЕТ
Часто приходится слышать: нельзя применять термин «тоталитаризм» к эпохе постсталинского Советского Союза, не говоря уже о нынешней России. Но вопрос не в сравнениях — необходимо уметь увидеть общие доминанты, понять, что вирус этот никуда не исчез, прививки от него в нашем Отечестве не было, а потому он, пусть и в ослабленной форме, может заразить власть и общество вновь.
Нам кажется, что рыночная экономика, частная собственность создают более плюралистическое поле, что они панацея от тоталитарного сознания, которое не терпит никакой соревновательности. Однако во многих авторитарных и тоталитарных европейских странах ХХ века, где не была отменена частная инициатива, действовал известный лозунг: «Друзьям — по любви, врагам — по закону». Что-то очень знакомое, не так ли?
За последние 10 лет бизнес поставлен на колени, мелкий и средний и вовсе изничтожен. Согласно последним опросам, только 2% граждан в России хотят создавать свое частное дело, тогда как в США — 70%, в Европе в среднем 25%. Все больше сфер экономики оказываются под монополией государственных корпораций, а формально частные компании выживают прежде всего за счет тесных связей с компаниями государственными. Таким образом, нарушается автономия бизнеса как института — его накрывает все то же всеобъемлющее государство. А значит, скукоживается и поле независимости от власти. Добавьте к этому атаку на независимые, неправительственные организации, которые объявляют иностранными агентами, — и вот третий сектор, и так крайне небольшой, начинает вытесняться в маргинальный угол. Одновременно с этим — вторжение в науку, образование, сферу частной жизни, и вот уже государство практически везде. Вместо десяти театров — один, вместо ста вузов — десять, чтобы легче было контролировать.
Однако беда в том, что управлять сложными, диверсифицированными социальными организмами из одного центра и посредством простых решений невозможно. Не работает. В лучшем случае начинается стагнация, в худшем — некроз или хаос. Так и тогда у государства появляется потребность в насилии, другими словами, переламывание через колено становится формой и методом управления.
ВЫХОДЫ
Вопрос, которым сегодня задаются многие: будущее предопределено или за его альтернативы можно еще побороться? Я не поклонник детерминизма: да, ситуация очень драматическая, но стоит задаться вопросом: а что мы, люди интеллектуальных профессий, сделали, чтобы такого развития событий не допустить? И что мы делаем сейчас, и достаточно ли того, что мы делаем? Есть ли какие-то способы донесения до большого количества людей других этических принципов и идей, нежели те, что звучат с экрана телевидения или из Государственной думы? Например, что функция государства — не подавление социальной активности и насильственное перераспределение финансовых и природных ресурсов, а координирование действий самоорганизующегося общества — так, как это с теми или иными девиациями и происходит в демократических странах.
Мне кажется, надо серьезно пересмотреть нашу собственную роль — я имею в виду людей творческих и интеллектуальных профессий. Мне много приходится ездить по конференциям и встречам, и одно неизменно поражает: невероятный снобизм интеллектуалов, их приверженность стереотипам, их неспособность говорить с окружающими на понятном им языке. Стереотипы, если чуть упростить, следующие: общество наше бездарно, оно ни к чему не способно, нас, интеллектуалов, никто не слышит, никто не ценит, а потому ситуация совершенно безнадежна. Так, в России не раз уже бывало: образованное сословие в разные времена создавало систему отгораживания от непросвещенной массы. Когда-то это был французский язык, когда-то элитарность жизнеустройства, от спецпайков до спецпансионатов и спецклубов — литераторов, архитекторов, кино.
Между тем вся послевоенная советская история являет собой пример борьбы общества за расширение приватного поля, борьбы за право на отдельную от государства частную жизнь. Павлик Морозов тогда уже перестал быть пионером-героем, хотя он и висел на каждой школьной доске: семья — святое, друзей и родных надо защищать от произвола государства — это стало входить в этику общества. Эта борьба за автономность от государства приобретала самые разные формы — от дикого туризма до домашних научных семинаров — и преследовала одну цель: создание поля свободы пусть и в масштабах «двушки» в спальном районе или палатки в тайге.
«Выстраивание истории страны как бесконечной победной поступи государства — это все из комплекса тоталитарного сознания»
Сегодня мы наблюдаем ровно то же самое: возьмите, к примеру, движение автомобилистов. Что это, как не самоорганизованное социальное движение? Многие не признают его за серьезное политическое сообщество, а зря. Ибо оно и есть язык постсоветского общества, в котором собственный автомобиль — это не только признак статуса, но и требование неприкосновенности частной жизни, и борьба за равные правила игры. Таких примеров социальной активности общества много. Но часто ли их замечают журналисты, социологи, политики? И знаем ли мы, что, какие процессы на самом деле происходят в российском социуме, или видим и замечаем только то, что ограничено рамками нашего скромного опыта?
Но, не изучая это общество, мы с ним и говорить-то не можем — а оно жаждет разговора. А если мы и говорим, то часто люди воспринимают нас в штыки, но не потому, что все за твердую руку: они не понимают абстрактный язык теорий. «Демократия», «свобода слова», «либеральная экономика», «частная собственность» — пустой звук, пока под эти важнейшие идеи не будет подведен этический фундамент и пока эти термины не будут соотнесены с жизненной практикой людей. Вот эта идея, с одной стороны, отстаивания принадлежности России ко всему миру, идея открытости, а с другой стороны — понимания, что есть специфический язык общества, который надо воспринимать и уметь на нем говорить — ровно то, мне кажется, что должно быть первоочередной задачей для людей интеллектуальных профессий.
А много ли мы знаем учебников или исторических книг об опыте сопротивления тоталитарному режиму как у нас в стране, так и в других странах с похожими режимами? Вспомните, как пинали в 90-е академика Сахарова? Как высмеивали шестидесятников? Многие ли знают о советских правозащитниках, о послевоенном художественном нонконформизме? Между тем они — это наш, российский опыт зарождения и развития гражданского общества, опыт, который сегодня нам важен как никогда.
Нет, я не призываю бросить все и с посохом ходить в народ. Я предлагаю пересмотреть миссию интеллектуалов в современном обществе, осознать свою ответственность за ситуацию, в которой мы оказались, и понять: главная борьба — это борьба за умы людей. Тоталитарное сознание побеждает в том числе и потому, что не умеем, не хотим, боимся, отступаем мы.